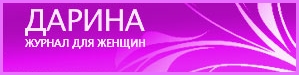|
Манифест эскапистки.
Мне не нравится время, в которое я живу. Катастрофы, теракты, войны внутри страны и за ее пределами. Чугунная поступь товарища президента и заботливая рука матери нашей церкви, потихоньку сжимающаяся на горле столицы. Не дай себе засохнуть, играй – и проиграешь, мирный атом в каждый дом. Поколение пи, «Р значит реклама», погоня за розовой чушью и тут же вспоротые кишки на блюдечке с голубой каемочкой. Еда из баночек и пакетиков, книжки в бумажных обложках, пустая музыка на плохие стихи, газеты с опечатками, звериная злость людей бедных, наглый понт богачей и снобизм мидлл-класса. В начале девяностых людям дали свободу. Но, цитируя Стругацких «он думал, что одной свободы достаточно, чтобы уподобить раба богу». Скинув с плеч коммунизм и ЦК КПСС, люди тут же нашли себе новых хозяев – работодателей, бизнес, престиж, религию – лишь бы не думать самостоятельно. Кому-то комфортно в бешеном и пустом ритме Москвы двадцать первого века. Кто-то прячется – в водку, наркотики, виртуальность, экстремальные путешествия, свинги, секты и психоложество. Жизнь человека потеряла опору, наполненность, стала зыбкой и переменчивой. Иногда мы хватаемся друг за друга – чтобы удержаться в потоке реки времени. Воды дней бьют по нам и разбрасывают – прочь, на разные берега… Когда я была девчонкой, мир казался мне явным, незыблемым и непостижимым. Я жила в Ленинграде – городе, которого нет на карте новой России. Семье повезло с жильем – шестой этаж старинного доходного дома, две комнаты в коммуналке. Лепнина на потолках, фигурные ручки дверей, огромные, гулкие помещения с окнами во всю стену – худосочная новая мебель не сумела их загромоздить. Узорчатые паркетные доски, тисненые, зеленоватые стекла в прихожей, страшная, черная, чугунная ванна с допотопной колонкой над ней. Стуки, скрипы, вздохи и шорохи старого, много помнящего жилья – по ночам дом жил свей жизнью, а я подслушивала, прячась в слишком большой для ребенка постели.
Вещный мир – книги о революции и «осколки убитого времени». Я читала про мальчика, который лез на трубу завода, чтобы поднять там красный флаг, а потом шла в школу – и видела эту трубу и железные скобы наверх. И тут же – гувернантки с детишками и гимназистки в крахмальных передниках – на аллеях Летнего сада. Трофейный «Золинген» дедушки и губная гармошка – из тех, на которых рыжемордые фрицы наигрывали «Ах, мой милый Августин». Томик Лермонтова 1894 года, шляпная картонка с «ятями», столик «модерн» - мама потом продала его, чтобы купить мне ботинки к школе. Острова Жюля Верна, шпаги трех мушкетеров, прерия Купера и подвиги капитана Сорви-Голова как бы сделали меня сверстницей детей, которые жили этими книгами за пятьдесят и сто лет до меня. Вчера и век назад – одно и то же «давным-давно». Время вспять движется просто и медленно. Стоит выбраться в город, начать кружить по белеющим – от снега ли от ночного света – улицам – и уйдешь в Петербург, увидишь как подъезжают кареты к Большому театру, строятся в каре угрюмые полки на Сенатской, спешит по сырой Моховой чиновничек в драной шинели.. Детский мир, моя Неверландия, полнилась кораблями, батискафами и звездолетами, простиралась от Зурбагана до самой Америки – обе точки земли представлялись равно недостижимыми. Все казалось понятно и просто – есть герои и подвиги, друзья и враги, честь и правда. А телевизор врет. И газеты врут, и в школе нас учат врать – это правила взрослой игры, так надо. Я училась читать между строк, выбирать в магазине правильные пластинки и искать и выпрашивать из-под полы «запрещенные» книги. Я была счастлива в своем бумажном замке, и не я одна – сколько нас «книжных девочек» и «последних романтиков» пряталось от жизни по библиотекам? Тогда это можно было себе позволить. Новый мир двадцать первого века рябит, как цветной телевизор «Рубин». Все спешат и торопятся жить – дальше, выше, быстрее. Забивают себя впечатлениями и удовольствиями, пихают в голову все, что дают – без разбора. Прячутся в Интернете, читают заумь, ищут смысл жизни и не находят, ибо ищут не там. «…В смутные года всегда слепец идет за сумасшедшим…» (с) Шекспир. Я заслоняюсь от мира страницами прожитых книг, ищу приюта на улицах старых городов, в безмятежной и нищей провинции. Витебск, Владимир, Октябрьский, добрый Харьков – там еще живы неспешные, щедрые восьмидесятые. Там по утрам на улицы выходят дворники, грузовики развозят теплый хлеб, всех продавщиц в гастрономе знаешь по имени и на «вы», а дети спокойно играют во дворах без присмотра. Там мое время… Жить в обществе и быть свободным от общества невозможно. Но когда меня загоняют в угол стоголовые чудища двадцать первого века, хочется умолять «Пройдите мимо! Оставьте мне мое счастье!!!» …Тополь на Петроградской, последний желтый трамвай, кислый запах ржаного хлеба, благословенный покой школьной библиотеки…
|
|